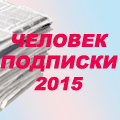Сколько помню Анну Дмитриевну Грищенко (в девичестве Гончарову) по работе в редакции районной газеты, она всегда была добродушна, проста в общении, эмоциональна. Она такой же и осталась: с широкой душой, иногда острой на словцо, с твердым и упрямым характером, без которого в жизни, а тем более в войну выжить было непросто.
А как она работала на печатной машинке! Было любо-дорого смотреть на этот быстрый звонкий перестук. Она без сомнений убирала у районных журналистов витиеватость стиля, излишние детали, явные ошибки, расставляла знаки препинания. Никто не возражал. С ее опытом было поспорить трудно.
И сейчас она в хорошей памяти, вспоминает тысячи мелких деталей довоенной, военной и послевоенной поры, легко называет даты и фамилии. В общем, мне с таким рассказчиком явно повезло. Тем более что Анна Дмитриевна сама прислала в редакцию газеты «Истоки» несколько тетрадных страниц с воспоминаниями. Потом мы уточнили с ней некоторые детали, проконсультировавшись с краеведами, расширили некоторые узловые моменты повествования, но в целом все основывается на воспоминаниях десятилетней девчонки из страны, в которую пришла война.
Жизнь во фронтовом поселке девочки-подростка будет показана через призму ее ощущений. Конечно, мы расширили рассказ Анны Дмитриевны некоторыми дополнениями, без которых трудно будет понять те исторические условия, в которых пришлось жить нашей героине, ведь время оккупации Прохоровского района, боев за его освобождение имеет несколько значимых периодов. Некоторой фрагментарности, конечно, избежать не получится – что-то больше запало в память героини, что-то меньше. Но пора послушать саму Аню Гончарову – девчонку из легендарного фронтового поселка.
Предвоенная пора
В начале войны мне было 10 лет. С мамой и сестрой мы жили на улице Октябрьской, которая и сейчас называется Масловкой, от северного края улицы 3-й дом, дальше – колхозное поле и в восьмистах метрах – хутор Борщевка. Наш порядок огородами выходил к железной дороге, был весь застроен, а на противоположной стороне улицы стояло всего три дома. Отец умер, когда мне было два года. Пахал весной землю, устал, лег отдохнуть на пригорке и простыл, скоротечная чахотка унесла его за две недели.
Предвоенная Прохоровка выглядела совсем не так, как нынешняя, да и жизнь была совсем другая. Недалеко от нас стоял элеватор из красного кирпича, он располагался примерно там, где сейчас оптовая база Прохоровского райпо. К нему была проложена железнодорожная ветка. Далее располагалась соляная база, потом маслобаза, на которую свозили подсолнечное масло. За ней была база кориандра, где сторожем работал один дед, живший на нашей улице.
В Прохоровке было несколько школ. Там, где нынешнее здание ОМВД России по Прохоровскому району, была одноэтажная начальная школа, в которой я училась до войны во втором и третьем классах. А в первый класс я пошла в школу, которая называлась «красной» и располагалась там, где сейчас магазин «Топаз», недалеко от железнодорожного вокзала. В ней же тогда и жил директор Незнамов, я училась с его дочерью Анжелой. Тогда в хуторах Ямки, Лутово, Мордовка, Грушки были свои начальные школы, ведь детей было очень много.
Там, где сейчас в центре поселка находится «Хозмаг», ранее тоже был магазин, в подвале которого была пекарня. В ней работал пекарем мой дядька, он давал мне хлеба, если я заходила его проведать. Буханки были квадратные и круглые, круглые назывались ситными. Я, бывало, пока до дома с хлебом дойду, всю корку обдеру. Самое интересное в том, что хлеб в этой пекарне месили ногами. С детства я была очень подвижной и, словно шило, все время бегала за матерью, все боялась, что она куда-то денется.
Из довоенного времени помнятся похороны Марии – моей старшей сестры. А до этого моя мать Екатерина Митрофановна, в девичестве Чурсина, схоронила еще двух детей. Мария была отличница. В школу ходила в худых ботинках и смертельно простыла. Весь гроб ее был в цветах майской сирени. Видимо, тогда мать глубоко уверовала в Бога и начала читать нам с сестрой Евангелие, оно было на старославянском языке.
Во время оккупации в погребах и подвалах она учила нас молитвам, а много лет после войны, уже на пенсии, ходила читать по покойникам.
С начала октября 1941 года в школу мы уже не ходили, потому что здание заняли под госпиталь. Болтались по поселку, наблюдая, как проходила эвакуация. И хотя братьев у меня не было и провожать в армию было некого, мы с подругами каждый день ходили на железнодорожный вокзал. Он был красивый, с большими окнами и рестораном. На вокзале и платформе всегда было полно людей: русские мужики уходили на фронт. Там было все – песни, пляски, слезы. И так каждый день.
Война сначала как-то не ощущалась, где-то до сентября, до первой бомбы. Случилось это ночью. Я тогда была у тети, которая жила в общежитии железнодорожников, которое располагалось вдоль железной дороги за гаражами уже бывшего кинотеатра. Услышала тяжелый и страшный гул, по улице бегали люди, высыпавшие из кинотеатра, крик, паника. Самолеты отбомбились и улетели, и все поняли, что война у порога. Кроме бомб, немцы потом еще бросали бочки с листовками. Листовки собирали и топили ими печи.
Потом взорвали элеватор. Горело зерно, кругом гарь, дым. До этого мы успели натаскать зерна, как и подсолнечного масла, но немцы потом все забрали, хотя часть зерна так и осталась лежать на чердаке дома. Когда население тащило хорошую соль, мы не успели. Нам досталась какая-то крупная соль, которую называли «бузун» (неочищенная каменная соль), она-то нас и спасла. Принесли мы ее ведра три, и сестра Клава пересыпала ее в ящик, который поставила посреди огорода, обернув его клеенкой и закидав хворостом. Постепенно, таясь, мы отбирали из него соль, меняя на продукты. Этот ящик так никто и не обнаружил.
Но других продуктов натаскать было некогда, хотя и склады, и магазины стояли бесхозные. Ведь мать практически сутками работала в больнице, а мы с сестрой были еще малы. Перед приходом немцев матери выдали по мешку крупы, пшена, муки, бадью какого-то искусственного меда. Понятно, что с приходом немцев и это все было реквизировано.
Мы же себе набрали игрушек в брошенном промтоварном магазине. Никогда больше у меня не было столько керамических зайцев, белок, медведей, деревянных кубиков...
Дом на переднем крае
Немцы появились в ноябре. Из слухового окна дома мы смотрели, как они ходят по двору. Было очень страшно. Они заходили в дома, копались в вещах, что нравилось – забирали. Появились староста и полицай. Это были жители нашей улицы, которых звали Кубасами. Немецкая комендатура располагалась в здании, примерно там, где сейчас находится железнодорожный пешеходный мост. Со временем комендатура стала своеобразным центром поселка. Сюда шли за документами, с жалобами и прочим. Обычно перед комендатурой собирался народ, который немцы посылали чистить снег, наводить порядок, убирать трупы погибших при штурме Прохоровки красноармейцев.
Немцам не хватало общественных зданий для размещения гарнизона, и они начали селиться в домах, выгоняя жителей (к тому времени Прохоровка постепенно превращалась в мощный опорно-оборонительный пункт). У нас тоже поселились немцы. Из этого «совместного» проживания запомнился один случай. Однажды сестра Клава куда-то дела открытку с видами Германии, которую один немец поставил на полку. Тот разозлился и заставил ее на крепчайшем морозе рубить дрова. И она отморозила щеки. Мать пожаловалась на это офицеру, тот чем-то потер ее щеки, а солдата того куда-то отправил. Так что точно сказать о всеобщей и глобальной ненависти к немцам я не могу – они, как и мы, были разными. Вот только не знаю, считали ли они нас за людей?
Через какое-то время нашу семью немцы выгнали в погреб, спуск в который находился в сенях. Иногда если какой немец был подобрее, то он разрешал в хате в печи сварить картошки, в том числе и для них, и погреться. Другой мог просто стать на крышку погреба ногой и не выпустить нас. Для немецких частей Прохоровка была как проходной двор: то одни стояли у нас на постое, то другие, то третьи…
Потом установилось что-то вроде линии фронта, которая время от времени незначительно менялась, и Прохоровка превратилась во фронтовой поселок. У нас, на Масловке, – немцы, а в Борщевке через 800 метров – наши. Они периодически перестреливались. Помню первого убитого красноармейца, который полз по меже, возможно, пытаясь подорвать немецкую огневую точку. Но немцы его заметили и застрелили.
Оккупация. Хождение по мукам
До войны мама моя работала в больнице, которая была двухэтажной и находилась примерно на том месте, где сейчас находится многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Весь персонал, который не успел эвакуироваться, немцы собрали на работу. Под госпиталь заняли первый и второй этажи, а гражданские больные и раненые размещались в холоде и сырости в подвале, на соломе.
К этому времени нашу семью выгнали и из погреба, так как дом находился на переднем крае немецкой обороны. Мы переселились в другую половину подвала под больницей. В подвале мы прожили недолго, перебрались затем в соседний с больницей дом Стариковых вместе с семьей Даховых – их шесть человек и нас трое. Комната была небольшой, и когда вечером ложились спать на полу, то как раз лежали от стены к стене.
В доме была маленькая кухня, но есть было нечего. Дед Илья, отец фронтовика Василия Ильича Дахова, который после войны долго работал в районной типографии, часто ходил, как он выражался, «на базар», то есть отправлялся к месту, где лежали убитые лошади. Привозил на санках куски отрубленного мерзлого мяса. Стефановна, его жена, замачивала его в большом корыте, а потом варила. Мясо было темное, но голод и не такое заставлял есть. А еще у нас иногда бывала мерзлая сахарная свекла, которую мы находили на брошенном свеклопункте, вот это было настоящее лакомство!
Еще недели две мы жили у тетки Натальи, которая работала дежурной в общежитии, здание которого не сохранилось. В этом общежитии до войны отдыхали машинисты и кочегары, смена которых происходила у нас на станции. Потом немцы и эту казарму забрали для своих нужд, но тетка в одной комнате так и осталась жить.
Нас не выселили из поселка, потому что мама работала в больнице, под которую была приспособлена уже одна из железнодорожных казарм, а прежняя двухэтажная была разрушена во время обстрелов нашей артиллерии со стороны урочища Шмарино. Много раненых поступало в больницу после боев, когда красноармейцы несколько раз хотели взять Прохоровку в зиму 1941–1942 годов. Мать все время за ними ухаживала, а я часто спала у них в ногах на соломе. Главврачом была Клавдия Ивановна, еще была медсестра, а мать всю жизнь проработала санитаркой. Когда у раненых заживали раны, их отправляли в лагерь, который располагался примерно там, где сейчас находится газовая служба. Пленных использовали на разных работах в поселке, кормили их какой-то похлебкой. Когда их проводили под конвоем по Прохоровке, то местные жители пытались им сунуть в руки какую-то еду.
Один раз мать взяла у коменданта разрешение, чтобы зайти в свой дом и достать с чердака зерна. Дом стоял на передовой, и доступ гражданскому населению туда был запрещен. Во дворе торчал немецкий часовой, и мать, собираясь лезть на чердак, сказала «чертова немота». Часовой ударами приклада в спину выгнал мать со двора, не дав взять зерна.
Отношение немцев к союзникам-мадьярам было презрительное и уничижительное. Одеты они были как попало. Вшивые, простуженные и на солдат не похожи. Зато сами немцы стояли на постах, подложив под сапоги хозяйские пуховые подушки и укрывшись одеялами.
От вшей, как и мадьяры, мы тоже сильно натерпелись. Как только мы не пытались от них избавиться, и лишь после войны, когда появилось хозяйственное мыло с дустом, удалось избавиться от паразитов. А многие, достав дуста, просто посыпали им волосы на голове.
До войны старый Никольский храм в центре поселка был советской властью закрыт, а потом переделан. С одной стороны в нем разместили кинотеатр, а с другой – Дом культуры. Помню, в кинотеатре шли фильмы «Иван Грозный», «Василиса Прекрасная». Когда пришли немцы, они открыли церковь вместо кинотеатра, а в бывшем помещении Дома культуры разместили казино. С нашей улицы, с Масловки, одна девка выходила замуж за полицая, мы ходили смотреть – их в этой церкви венчали.
Запомнился еще и бургомистр Биндюк – здоровый мужик, который до войны был у нас директором заготконторы и из-за больных детей не смог вовремя эвакуироваться. При Биндюке никого из Прохоровки не угнали в Германию, уезжали только добровольцы. У моего мужа Анатолия, ныне покойного, дядя до войны работал шофером и возил секретаря райкома партии. Когда он вышел из окружения и вернулся домой, его немцы арестовали, а Биндюк, не побоявшись немцев, забрал его к себе шофером. Старшая дочь у него была красавица, а младшие сын и дочь были уродами. Я видела, как его дочь в шикарных санях катали по Прохоровке. За свою службу у немцев он был осужден, отсидел в тюрьме и после этого приезжал в Прохоровку, собирал какие-то справки и открыто смотрел людям в глаза, потому что никто его ни в чем не мог упрекнуть.
В здании, где раньше размещались райком партии и райисполком, а ныне находится здание суда, немцы открыли школу. Учительницей там была Мария Христофоровна, злая, ходила по классу с линейкой и лупила детей, орала на них. В книжках были перечеркнуты все портреты советских вождей, а задачи, в которых хоть что-то говорилось о бывшей советской власти, мы не решали. Потом школа потребовалась для нужд немцев, они нас оттуда выгнали и перевели в бывший довоенный «Народный дом». Отапливался он буржуйкой, а уголь для нее ребята ходили воровать на станцию. Но потом и эту школу закрыли.
О петушке
Где-то в начале лета, перед самой войной, я подобрала около железной дороги цыпленка, который непонятно как там оказался. Он был еле живой, видимо, его воздушной волной от поезда побило. Принесла его домой и начала лечить. Он сначала просто лежал в тряпочке, потом стал оживать. К осени вырос красивый белый петух. Немцы извели всех кур, а петушка мы прятали в шкафу. Потом решили, что чем фашисты его съедят, лучше мы сами. Ночью мама петушка сварила. За день поесть не пришлось, немцы шастали весь день по двору. Мама спрятала мясо в печке, а тут пришли немцы и приказали печь растопить и что-то им сварить. Уже ночью достали мы петушка из печки, который весь пропах дымом. Ели его со слезами на глазах, так как никакого аппетита он, насквозь пропахший дымом, не вызывал, но есть очень хотелось.
Об утке
У нас в кухне жила тетя Фекла Егоровна со своим дедом, который был мастером исполнения старинных песен, после него я уже ни разу их не слышала. Тетя и дед выращивали уток. Одних уток немцы забрали, других мы сами съели, а одну уточку прятали под кроватью.
Потом решили ее съесть. Рано утром бабушка сварила утку и борщ в одной кастрюле. А надо сказать, что старики часто между собой ссорились, бывало, по целому дню не разговаривали. Тот раз с утра они опять поскандалили, и бабушка ушла к нам в комнату, а дед остался в своей. У нас дверь кухни была напротив входной двери, и немцы, которые искали место под ночлег или размещение, часто сначала заходили к ним, посмотрят: старики, помещение маленькое, взять нечего. А тут немец зашел, учуял запах, открыл крышку чугунка, а там утка. Конечно, он ее съел, а кости бросил в борщ. Немец ушел довольный, а дед пришел к нам и говорит: «Ну что, бабка, надулась, теперь будешь голодная. Немец утку съел, а кости в борщ кинул». С омерзением мы вылили этот борщ, хотя есть хотелось невмоготу.
Десять картошек
Зимой мама с моей сестрой Клавой взяли санки и пошли по селам менять вещи на продукты. Также носили на обмен ведра, которые делал дед Пантюха, натаскавший разной жести со взорванного и сожженного элеватора. Часть вырученного отдавали деду, часть забирали себе. Меня оставили дома с десятью картофелинами и двумя пригоршнями муки. Рассчитывали, что пробудут в деревнях с неделю. Мне мать строго наказала варить в день одну картофелину, а из муки делать клецки. Ночевала я у соседки. Но мать с сестрой задержались, потому что как раз горела школа в Гусек-Погореловке и они не смогли добраться в Прохоровку. Вернулись мои, наверное, дней через десять, но я это уже смутно помнила, потому что заболела тифом.
Когда освободили Прохоровку, когда поселок Александровский, я не помню. Очень тяжело болела тифом, и этот период выпал из памяти, потому что металась в бреду. Как-то сестра пришла и говорит, что наши пришли. Я проковыряла дырочку в морозных узорах на окне, смотрю, ходят военные в погонах, и говорю сестре: «Зачем ты мне врешь?». А она отвечает, что это наши, но теперь они ходят в погонах. Очень удивительно было видеть таких красноармейцев.
Возвращение на родное пепелище
Весной мы вернулись домой. Крайние дома сгорели, от нашего осталась коробка без крыши, без окон и дверей. Из комнаты в сени был прорыт окоп, в стенах амбразуры. На поле между Борщевкой и Масловкой валялись трупы наших солдат, все были заминированы.
По возвращении в наш разбитый и опустошенный дом мама взялась за дело. Собрала по огороду разное железо, что сорвало с крыши, и забила им проемы окон. Закопала окоп в доме. Маленькая кухня была менее разрушена, ее она и оборудовала под жилье. Сама сложила печку. Тогда на пепелищах стояло много обгорелых остовов печек. Нашу печку немцы разобрали, укрепив ее кирпичами свои окопы. Потом соседи приходили к нам печь хлеб. Хотя топить печку было нечем. Все ходили по железнодорожному полотну, собирали уголь, который сваливался с платформ. Деревья из железнодорожной посадки ни наши, ни немцы рубить не разрешали. Но топить чем-то надо было, потому в окрестностях вырвали весь бурьян.
Мама наша, прожив долго без мужа, всему научилась и все могла, никогда не унывала и не паниковала. Трудилась не покладая рук дома, в больнице, у людей (обмазывала им хаты) и все успевала. Мама могла и валенки подшить. Другие женщины, конечно, не все, которые жили с мужьями, оставшись одни, растерялись от объема свалившихся на них проблем, горя и мытарств. Вспоминается одна соседка, которая была женой столяра-краснодеревщика и ни в чем не нуждалась, живя, как говорится, на всем готовом. Малоприспособленная к жизни, она потом очень страдала во времена голода.
Было голодно, одежды почти никакой, у меня остались старое пальтишко, изношенные валенки, от тетки иногда что-то перепадало. А еще выручала нас ручная швейная машинка «Зингер», которую мать бросила в погреб, когда мы уходили жить в больничный подвал. Машинку эту матери купил наш отец еще в молодые годы. Теперь достали ее, всю ржавую, из погреба, и один дед взялся ее починить. Он ее разобрал, а запчасти положил в керосин. За несколько дней она откисла, мастер все отчистил, и она вновь заработала. Соседи несли разную одежду, чтобы что-то перешить, перелицевать. Платили за работу продуктами.
В дни Курской битвы
Четыре месяца, с марта по 5 июля 1943 года, мы прожили в целом мирно. Если не считать, что в середине марта в Прохоровке произошла большая трагедия. Немецкий самолет-разведчик «рама» высмотрел, что на Колхозной площади, где сейчас управление Пенсионного фонда, собралось много народа. Это были призывники окрестных сел, которых с вокзала отправляли в армию. Прилетел немецкий самолет и бомбами и пулеметным огнем убил и ранил около двухсот человек.
Наголодавшийся народ весной, чем мог, засаживал огороды, в разминированных полях посеяли рожь, на жатве которой работало много людей, они были переселены в Прохоровку из 25-километровой прифронтовой полосы. У нас на огороде к июлю уже была картошка с высокими стеблями. В Прохоровке был свой комендант, располагались разные военные части, оборудовались склады для предстоящих сражений с немцами, которых отогнали от Прохоровки за 30–50 километров.
5 июля на фронте загрохотало, а уже через день начали бомбить нашу железнодорожную станцию. С каждым днем грохочущий фронт стал подходить все ближе к поселку. Лето 1943 года было очень жаркое. В один из дней Курской битвы мы с сестрой были дома, мама работала в госпитале. По нашей улице ехала машина, на подножке ее стоял солдат и громко говорил женщинам, чтобы забирали детей и уходили, потому что, если ворвутся немцы, никого в живых не оставят, а в погреба они бросают гранаты. Мы с сестрой ушли с улицы последними, все ждали маму, которой долго не было. Ушли в лог, который начинался от Борщевки в сторону Берегового. Ночью нас нашла мама. Днем в логу жарища, ни ветерка. Воды нет. Потом по верху оврага наши бойцы начали рыть окопы. Сказали взрослым, чтобы уходили, потому что никто не был уверен, что удержат немцев под Прохоровкой. В районе хуторов Политотдел, Сторожевое, Прохоровки все горело, гудело, в небе масса самолетов, бомбы сыплются градом. Когда взрывалось что-то большое по ночам, были видны огромные сполохи.
На поле перед хутором Кусты, на месте предвоенного гражданского аэродрома, на котором даже была вышка, за которую цеплялся дирижабль (правда, откуда и куда он летал, я не помню), был оборудован ложный аэродром – с капонирами, макетами самолетов, зениток, автомобилей, солдат. Бомбили его немцы здорово, а мы, считай, как раз рядом с этим аэродромом в логу и прятались, другого места не нашли, да его и не было. Прятались мы еще и в окопах под Борщевкой, над которой разворачивались после бомбежки станции немецкие самолеты. Как-то я упала в окоп на спину и хорошо видела, как из самолета, прямо, казалось, на меня, вываливаются одна за другой бомбы. Один раз упали с сестрой в окоп, а после бомбежки я почувствовала что-то горячее возле головы, это был большой осколок, который как раз упал между нашими головами.
Потом сестра Клава, которая была старше меня на четыре года, ушла от бомбежек с молодежью в село Чуево нынешнего Губкинского района, а мы с мамой пошли в село Красное, рядом с Прохоровкой, там жили родственники моего покойного отца. Вещей с собой не брали никаких, ушли в чем были. В Красном родственники очень удивились тому, что мы живы, потому что над Прохоровкой был сплошной огонь и дым. А вечером Красное тоже бомбили немцы – оказывается, там был штаб какой-то армии.
Ночью нас разыскали мамины племянницы, они оставались в хуторе Зеленый, ныне хутор Нива. Туда и мы отправились, где прожили до конца танкового сражения, а потом вновь вернулись на родное пепелище. Но еще долго, до самой осени, дома не ночевали – то в логах, то уходили в хутор Зеленый, потому что железнодорожную станцию немцы бомбили по ночам. Мама снова начала работать в госпитале и получила карточки на хлеб.
После танкового сражения в Прохоровке остались всего несколько зданий, а Никольский храм разбомбили в пух и прах – возможно, немцы думали, что там сидят советские корректировщики. Из кирпича фундамента и подвала храма после войны и построили бывший Дом культуры, где ныне МФЦ.
Осень 1943 года: опять в школу
К концу лета начали собирать учеников. Все переростки уже два года не учились. Учителя провели среди нас нечто вроде экзаменов. Диктант я написала хорошо, не знаю, с какого перепугу слово «одиннадцать» в нем я написала правильно. По арифметике два примера тоже решила правильно, и меня определили в 4-й класс, в 3-м я училась всего один месяц. С 1 сентября началась учеба в сохранившейся после бомбежек деревянной «маленькой» школе на улице Советской, недалеко от дома Модлинских, который также остался цел. Когда-то в этом доме сестра матери работала горничной. Занимались мы в три смены, за партами сидели по три–четыре человека. Книг и тетрадей у нас не было, а у учителя учебники были. Один раз за ночь я изучила весь учебник истории, для ориентира выписала только важнейшие даты.
Меня выручала хорошая память, я сразу запоминала все, что прочитывали в классе, особенно литературные произведения. Школа не отапливалась, света не было, в коридоре вверху горела керосиновая лампа, а в классе у каждого на партах были коптилки из гильз, которые мы приносили с собой.
Учились мы с большой охотой. К ноябрьским праздникам меня приняли в пионеры, мать для этого выкрасила в красный цвет кусок какой-то ткани. На торжественном костре (семилинейная керосиновая лампа посреди класса, прикрытая красной тканью) я рассказывала стихотворение «Убей немца». Автора не помню, оно довольно длинное, и в нем есть такие строки: «Если смел ты, сердцем чист, если сердце горит в груди, стань стеной у врага на пути. Если честен, будь готов немца бить и с колена, и в рост, чтобы столько было крестов, сколько в небе над нами звезд!».
Как-то объявили, что ученикам будут давать хлеб. За хлебом ходила сначала староста класса. Положишь кусочек хлеба в рот, и сразу его нет. Потом мы стали ходить за хлебом по очереди, потому что в сумке всегда оставались крошки. И потому сейчас грустно видеть, как взрослые и дети относятся к хлебу.
Если до войны у меня у единственной в классе не было отца, то теперь я сравнялась в этом со многими. Еще шла война, и у нас были предметы строевая и огневая подготовка, ходили в строю, пели строевые песни. Мальчишки изучали винтовку, гранаты, девочки приемы оказания первой медицинской помощи. Сначала мы не хотели учить немецкий язык, но потом наш военрук Мироненко, который после ранения преподавал военное дело, разъяснил, что язык врага надо знать.
Жизнь продолжается
Особенно тяжелым оказался 1946 год. Была страшная засуха, все на полях и огородах погорело. Дорог был каждый колосок. Весной 1946-го с утра бригадир нашего колхоза «Новый мир», который располагался на Масловке (тогда каждая улица имела свой колхоз), Марфа Бобрышева обходила дома и давала задание собирать колоски. Мы ходили по полям с сумками, собирали колоски и вечером сдавали кладовщику. А еще сносили снопы к скирдам. Мы с подружкой на две палки, как на носилки, клали снопов столько, сколько могли поднять, и бегом до скирды. Бежишь, бывало, со снопами на палках, а тебя шатает во все стороны.
Техники не хватало, и когда в бригаду давали молотилку, то все были возле нее. Девчата со скирды бросали снопы вниз, а внизу Марфа сама у барабана молотилки развязывала снопы и бросала в нее. Но зато ночью после тяжкого труда нам давали ужин: суп и хлеб. Хлеб для общего стола пекли по домам, пекарни в колхозе не было. Счастье было, когда идешь домой и несешь заработанный тобой целый килограмм свежеиспеченного хлеба.
Послевоенная Прохоровка постепенно оживала. Примерно там, где сейчас Пенсионный фонд, располагался большой базар, на который съезжался народ со всех окрестных сел и хуторов. Продавали разную скотину: коз, баранов, телят, коров, разную птицу, масло, сметану, творог, молоко, даже лапти.
…В 1947 году я окончила семь классов и вскоре уехала в Харьков на шестимесячные курсы делопроизводства и машинописи и фактически всю жизнь проработала секретарем-машинисткой. Воспитала с мужем двух дочерей, но это уже рассказ из другой жизни.
- Добавить комментарий
- 4056 просмотров
- Страница для печати