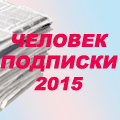Московские земляки из «Белогорья»
Знакомьтесь: видный организатор сельскохозяйственного производства области, инвалид Великой Отечественной войны Дмитрий Константинович ГОНЧАРОВ.
Родился в июле 1925 года в селе Архангельское, что под Старым Осколом. После окончания Архангельской семилетней школы работал в колхозе. В начале 1943 года ушел на фронт. Воевал на 1-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Несколько раз был тяжело ранен.
Демобилизовавшись, вернулся в Архангельское, восстанавливал разрушенное войной хозяйство. С 1950 по 1954 год учился в Воронежской средней сельскохозяйственной школе по подготовке специалистов сельского хозяйства. Вновь вернулся в Архангельское агрономом. Около тридцати лет возглавлял ряд хозяйств района.
Среди государственных наград – два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, ордена Отечественной войны I степени и Славы III степени. Удостоен почетной грамоты губернатора Белгородской области и медали «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени.
В качестве делегата участвовал в работе III Всесоюзного съезда колхозников. Три созыва был депутатом Белгородского областного Совета народных депутатов.
Сейчас на заслуженном отдыхе.
Живет в городе Сергиев Посад Московской области.
– Дмитрий Константинович, у вас целый иконостас государственных наград. Какая из них дороже всего?
– Награды как дети. Мы с женой, Ниной Петровной, которая удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», воспитали троих сыновей. Они уже пенсионного возраста. Один работал главой администрации Сергиево-Посадского района Московской области. Другой служил в Военно-морском флоте. Капитан I ранга в отставке. Третий – экономист. У нас шесть внуков, большинство из которых посвятили себя военному делу, работе в правоохранительных органах, и шесть правнуков. Все они одинаково дороги. Потому что это наша кровь, продолжение нашего рода. Так и с наградами. Их ведь не давали за красивые глаза. За каждой – частица жизни. Поэтому не делю ордена и медали на любимые и не очень.
– Мне казалось, что увы, как участник Великой Отечественной войны назовете орден Славы III степени. Как-никак – первая солдатская фронтовая награда…
– Ну, разве что с этой точки зрения… Для всех нас День Победы – святой день. Но вспоминать о войне, смотреть фильмы и передачи о фронтовых буднях не люблю. Тяжело. Подскакивает давление, унимать которое приходится с помощью таблеток. Возраст все-таки. Война отняла у меня отца, который ушел на фронт уже в июле 1941 года и пропал без вести. Сложили головы два брата отца и три брата матери, муж сестры моей матушки. Я прошел войну рядовым, вернулся с фронта двадцатилетним инвалидом войны. Иной раз кажется: все, что пережил, случилось не со мной. Но старые раны дают знать о себе, напоминая: было, было, было…
– А где вы встретили День Победы?
– Может быть, огорчу вас: до Берлина не дошел. С союзничками не братался. Воевал на Украине, в Белоруссии, в Пруссии. А День Победы встретил под Житомиром. Весной 1945 года сюда на переформирование была переброшена наша часть. Однажды глубокой ночью – тревога. Выскакиваем – кто босой, кто, извините, в одних кальсонах. Тревога на фронте – дело нешуточное. Не до внешнего лоска. Темнота будто из дегтя. Липкая, крутого замеса. Видим: невдалеке два студебеккера с откинутыми бортами прижались друг к другу. Загадочно, разрезая темноту, горят фары. Мы – к машинам. Через некоторое время на импровизированную сцену поднялся командир – подтянутый, бравый, веселый. «Товарищи дорогие, братья мои, – говорит не по уставу. – Вот мы и дожили с вами до самого светлого дня. Фашисты капитулировали». Он вскидывал сжатый кулак вверх и энергично, будто казак шашкой, разрезал им воздух, с наслаждением повторяя короткое, но желанное слово: «Победа! Победа! Победа!».
На мгновение мы будто онемели. Потом начали обнимать друг друга. У многих на глазах были слезы. Но праздновали недолго – приказано было разойтись на отдых. Никто, конечно, не спал.
Не спал и я, день за днем перебирая пережитое. К началу войны мне не было и шестнадцати. После семилетки думал поступать в Новооскольский сельхозтехникум. Не довелось. Архангельское – село глубинное. Радио не было. Газеты редко кто выписывал. Тем не менее атмосфера села была пропитана предчувствием большой беды. Ее ждали, но она, как всегда, пришла неожиданно. Однажды пасмурным, дождливым днем односельчан собрали в школу на митинг. Пришли все от мала до велика. Тут-то и объявили: война! Германия бомбит наши города и села. Многие участники митинга брали слово, призывали бить фашистскую нечисть нещадно и покончить с ней как можно быстрее.
Били действительно нещадно. А вот в кратчайшие сроки не получилось. Уже летом 1942 года оккупанты пожаловали в Архангельское. Самоуверенные. Брезгливые. Господа! Начали наводить свои порядки. Забирали теплые вещи, все съестное. Расстреляли активистов – тайком. Но родственники погибших каким-то образом узнали место расстрела. Рискуя жизнью, они собрали останки погибших и по православному обычаю тоже тайком предали их земле.
Люди сопротивлялись оккупантам как могли. Был в нашем селе летчик. До войны он даже прилетал на «кукурузнике» к родителям на побывку. Мы, детвора, сбегались посмотреть на диковинную стальную птицу. Так вот, кто-то сообщил летчикам (какими путем – не знаю) дома, где разместились фашисты. Однажды над Архангельским появились наши самолеты, били точно по целям. Многим фрицам не удалось спастись.
Может быть, именно тогда у нас окрепла уверенность – дни оккупантов сочтены. Не ошиблись. В начале 1943 года село было освобождено. Буквально через неделю-другую вместе со сверстниками Николаем Зубковым и Иваном Черниковым пошли в военкомат, попросились на фронт. Услышали в ответ, что на фронте детям делать нечего. В разрушенном селе забот хватает. Однако мы настаивали на своем. Тогда нам порекомендовали явиться на призывной пункт в Воронеже, дали адрес. Мама – в слезы. Куда там! До Воронежа примерно километров 120. Зима. Морозно. Полураздетые и кое-как обутые, мы шли пешком. Ночевали где придется. Да еще на призывном пункте надо было уговаривать, чтобы нас призвали в армию. Еле уговорили. Но сразу на фронт не направили. Сначала в Ульяновской области осваивали минометное дело. А было нам по 17 лет от роду. Некоторым же – и того меньше. Действительно дети.
Пока учились, отгремела на нашей земле победоносная Курская битва. Оказались мы уже в Сумах, в танковой армии М. А. Катукова. Приказали о минометах забыть и учиться десантироваться с танков, взаимодействовать с этими грозными машинами. Тоже непростая наука. Распластаешься в окопе, а его утюжит махина в несколько десятков тонн. Земля осыпается, того и гляди окажешься погребенным заживо. Потом перебросили под Киев. Форсировали Днепр. Захватили два плацдарма. Фашисты, чтобы не попасть в окружение, начали отступать в направлении Житомира. Здесь опомнились, пошли в контратаку. В этом бою и был ранен в первый раз. Осколок вражеской гранаты «нашел» мой позвоночник, да и «окопался» в нем. И начал я считать госпитали. В конце концов эвакуировали в далекий Казахстан – в город Актюбинск. Врачи не знали, как со мной быть. Выходило, что операцию делать нельзя. Пока судили да рядили, осколок каким-то чудом выпал, на мое счастье, сам. Подлечили, интересуются, не хочу ли в военное училище. Не хочу, ответил. На фронт и только на фронт!
Так оказался в городе Невель Псковской области. Уже тогда шла подготовка к знаменитой операции «Багратион». До передовой шли по ночам – с оружием, боеприпасами и всем тем, что необходимо солдату в бою. Бывало, прошагаешь километров двадцать–тридцать и думаешь, что не встанешь. Ободряло то, что шли не на восток – на запад! Колонны сопровождали самолеты. Маскируя передвижение войск, они имитировали бомбежку. Бомбы сыпались справа и слева как из рога изобилия. Под этот «оркестр» и дошли до места назначения на белорусской земле.
Начали готовить боевые позиции. Тоже скрытно, по ночам. Тут-то моя воинская специальность минометчика пригодилась. Местность – болота по пояс. Чего только не придумывали, чтобы, не выдавая себя, доставить на позиции минометы, мины, патроны. Бывало, становились на четвереньки, брали в зубы брезентовое полотно, на котором лежало несколько мин, и таким образом добирались до нужного места. Наконец настал день операции. Часа два вели из минометов непрерывный беглый огонь. Чтобы представить его интенсивность, скажу, что некоторые мины, опущенные в жерло минометов, не успевали доходить до бойка. Газами от предыдущего выстрела их выбрасывало из стволов, и они плюхались на бруствер окопа, медленно сползая по нему в нашу сторону. Того и гляди рванет. А потом пошли в атаку. Окопы фашистские широкие, в полный рост, были до верха набиты трупами немцев, итальянцев, румын. Некоторые лежали в чем мать родила. Бежал по этому страшному, окровавленному, колышущемуся месиву и думал: «Нашли, что искали!».
Затем форсировали Неман, вышли к довоенной границе Советского Союза. Шли путем уже проторенным. В нашей фронтовой полосе оказалась одна высотка. На ней два креста. Один в память о тех, кто погиб во время Отечественной войны 1812 года, другой в память о погибших в годы Первой мировой войны. И нам довелось полить эту высоту своей кровушкой. Высотка так себе. Но она господствовала над местностью и тем была ценна. В подразделении даже объявили: кто закатит на высоту пушку-сорокапятку, будет представлен к званию Героя Советского Союза. Бои за нее развернулись нешуточные. Несколько раз высота, находившаяся на нейтральной полосе, переходила из рук в руки. Однажды вместе с командиром подразделения мы пошли на эту высотку в разведку. Надо было уточнить, откуда фашисты ведут минно-артиллерийский огонь, и передать координаты артиллеристам. Взобрались на высоту, окопались, наблюдаем. Замечу, что наши данные потом очень пригодились. Меня наградили орденом Славы III степени.
А фашисты гвоздили по высоте ежеминутно. Мины начали все чаще ложиться рядом с моим прибежищем. А я приподнялся, чтобы лучше рассмотреть, откуда стреляют. Разрыв – и все померкло. Осколок попал в висок. Опять череда госпиталей. Операцию делали в Москве. Речь нарушена. Некоторые слова не мог выговаривать. Голова кругом идет. Слышу, выздоровевших направляют на шоферские курсы. Я в ряды этих счастливчиков. Врач – ни в какую. Потребовалось вновь использовать дипломатию.
Короче говоря, шоферскую науку осваивал в Нижегородской области, а шоферил уже в Прибалтике. Был ранен третий раз – в руку. Но ранение скрыл: после предыдущих осколков для меня это была не рана – пустяк. Отсюда после боев подразделение вывели на переформирование под Житомир, где, как уже говорил, и встретил День Победы.
Понятно, что акт капитуляции фашистов принимал не я, добивались его подписания – кровью. Но считаю, что миллионы моих соотечественников, таких же как я.
Жаль, что не довелось расписаться на рейхстаге. Написал бы: я, двадцатилетний рядовой солдат, принес Германии свободу от фашизма. Берегите ее. Будет по-другому – мои дети и внуки придут расписываться на рейхстаге.
Может, автограф мой был бы не лишним, отрезвлял бы некоторые горячие головы? Речь не только о Германии, но и наших дорогих, как их назвал, союзничках. Посмотрите, что происходит. До глубины души возмущает наглое, беспардонное вранье. Выходит, что они одолели фашизм, а Советский Союз как бы при этом лишь присутствовал. Наверное, действуют по Геббельсу: чем циничней ложь, тем легче в нее поверить. Правители стран Балтии, Польши вещают, что мы не освободили европейские страны, а оккупировали их, навязали чуждые ценности. Ну тогда Литва, если следовать их логике, должна вернуть часть территории вместе со столицей Вильнюсом Польше, а Польша, в свою очередь, огромные пространства Германии. Тогда заявите во всеуслышание: наши ценности – фашистского толка. Не улыбайтесь. Я следую логике наших, так сказать, оппонентов.
Под заокеанскую дудку усердно пляшут украинские скоморохи – яценюки. Утверждают, что борются за единство государства и общества. Странная борьба – снарядами по населению Донбасса, героизацией бандеровского отребья. Вспоминаю форсирование Немана. Мы – русские, украинцы, белорусы под кинжальным огнем форсировали реку, захватили плацдарм. Берег в том месте был высокий, почти отвесный. На вершине – фашисты, а мы у его основания. Посылаем мину за миной по врагу по очень крутой траектории. Осколки градом сыпались на нас. Но плацдарм не уступили. А чем отличились бандеровцы? Расстрелом мирного населения, безоружных соотечественников?
Помню, меня, тяжелораненого, везли в госпиталь. На станции Дарница подошла пожилая женщина-украинка и, сама изможденная, протягивает хлеб с маслом. Как он ей достался, трудно сказать. «Возьми, сынок, – почти шепчет дрожащими губами, – спасибо, что прогнали супостата, больше отблагодарить тебя нечем. Ты мне как родное дитятко». Чувствуете – не родственник, не знакомый, а дитя, дитятко! Вот ведь какая глубинная связь между нашими народами. Поэтому думаю, что как бы ни скоморошничали господа яценюки, связь эту не оборвать.
– Как вам, инвалиду, пришлось «встраиваться» в послевоенную жизнь?
– Мне, если можно так сказать, повезло. Руки-ноги целы. Видел, слышал, ходил. Ну а боли – куда от них деваться? Терпел… Засиживаться дома не пришлось. Кругом разруха. Даже печь топить было нечем. Начал трудиться в колхозе. Сначала – куда пошлют. Потом назначили кладовщиком. Бригадирствовал. Был направлен на учебу в Воронежскую среднюю сельскохозяйственную школу по подготовке специалистов сельского хозяйства – что-то вроде техникума. Пятилетнюю программу одолел за четыре года.
Вернулся в село, трудился фактически в местном колхозе агрономом, но числился в Роговатовской машинно-тракторной станции, которые для краткости именовали тогда МТС и которые обслуживали колхозы: в самих хозяйствах практически никакой техники не было. Однако долго засиживаться на одном месте не довелось. Однажды собрался совет МТС. Обсуждали текущие дела. Они шли ни шатко ни валко. Но собрание проходило благостно. Выступил, подводя итоги, директор станции. Получалось: тишь да гладь, да божья благодать. Меня это задело. Взял слово. Досталось на орехи и руководству станции и некоторым моим коллегам. Меня заметили, зауважали: ершист, но справедлив. Избрали председателем исполкома Дмитриевского сельского совета, в который входило Архангельское. Председательствовал девять месяцев и понял: не мое это дело. Решил быть поближе к земле. Просьбу мою с большим трудом уважили. А вскоре «выбился» в председатели. В председательском и директорском чине работал почти три десятка лет. Более двадцати из них – в родном селе.
– Задам вам, опытному руководителю, самый, пожалуй, сложный вопрос. Уже лет двадцать, если не больше, в общественном сознании утвердилось мнение, что колхозы, совхозы – неэффективные формы хозяйствования. Аргумент приводится вроде бы такой, против которого возразить нечего. На Западе колхозов отродясь не бывало. Но и свое население обеспечивают сельскохозяйственной продукцией, и нам экспортируют. Мы же без импорта молока, мяса, овощной продукции до сих пор не можем обойтись…
– Не знаю, не знаю… Не могу быть объективным в полной мере. Каждая клеточка пропитана колхозной жизнью. Спорить не приходится: конечные результаты сельскохозяйственного производства на Западе заметно выше отечественных. Но сравнивать только конечные результаты, мне думается, некорректно. Надо сравнивать и условия хозяйствования. Учтем климат, обеспеченность техникой, удобрениями, количество финансовых ресурсов, выделяемых на поддержку отрасли, и мы увидим, что по всем показателям катастрофически уступаем большинству наших конкурентов. Не секрет, что страна и довоенные годы, и десятилетия после войны развивалась за счет села, которому доставались крохи от бюджетного пирога. На эти крохи и жили. В спорте ведь не бывает так, чтобы легковес соревновался с тяжеловесом. А мы негласно соревновались и, бывало, даже кое в чем превосходили соперников. Считаю, что, если бы не колхозы, мы бы не обеспечили фронт продовольствием, и война могла бы кончиться для нас печально.
Мне кажется неверным и утверждение, будто на Западе не используют коллективные формы хозяйствования на земле. Возьмите Израиль. Насколько мне известно, еще с 1910-го там существуют так называемые кибуцы – сельскохозяйственные коммуны. Сейчас в стране, которая по территории в полтора раза меньше Белгородской области, их насчитывается свыше 300. В кибуцах заняты 100 тысяч человек. А теперь зайдите в продовольственный магазин: морковь – из Израиля, лук – израильский, и даже картофель тоже оттуда. Вроде формы хозяйствования изменились, колхозов не стало, а страна зависит от импорта продовольствия в большей мере, чем раньше.
Осмелюсь предположить, что дело не в колхозах как таковых. Дело в формах и методах управления сельскохозяйственной отраслью. В конце двадцатых – начале тридцатых годов прошлого века колхозы создавались компанейски. От них были фактически отрезаны так называемые кулаки и часть середняков – то есть знающие дело люди. Хозяйства вобрали в себя самую беспомощную часть населения. Энтузиазма было много, но он не восполнял неумение работать с землей. А уж об отсутствии организаторского опыта не говорю, его не было вообще. Пришлось организовывать движение двадцатитысячников – направлять на село рабочих, которые и возглавили многие колхозы. Но ведь и они зачастую не имели представления о том, как строить новый уклад жизни. Вспомните «Поднятую целину» любимого мной писателя Михаила Александровича Шолохова. Поэтому возникла еще одна необходимая тенденция – опека над хозяйствами партийных и советских органов. Время шло, выросли поколения грамотных земледельцев. Однако опека никуда не делась. Центр диктовал регионам, регионы – районам, а те, в свою очередь, хозяйствам. Понятно, контроль необходим. Но так ли уж было необходимо указывать не только то, сколько сеять, не только то, что сеять, но и когда сеять?
– Можно было бы согласиться с вами, если бы не одно «но». Область наша всегда отличалась высокой культурой земледелия и животноводства. Показатели были такими, о которых многие другие регионы и не мечтали. Да и ваш председательский, директорский путь отмечен завидными результатами…
– Видите ли, опека опеке рознь. Одно дело – помогать организационно, налаживать систему взаимоотношений между производителями сельскохозяйственной продукции и переработчиками, теми, кто обеспечивает удобрениями, техникой, горюче-смазочными материалами. Совсем другое дело, когда в Архангельской области приказывают сеять кукурузу. Но ведь приказывали! А нашей области приказывали сеять горох. Против гороха ничего не имею, напротив – ценная, нужная людям культура. Но для ее уборки фактически не было специальной техники. Получалось: сколько посеяли, столько и собрали.
Думаю, что наша область добивалась успехов потому, что на всех уровнях особое внимание уделяли именно совершенствованию структуры сельскохозяйственной отрасли (хотя и, чего скрывать, без мелочной опеки тоже не обходилось). Неслучайно ведь Белгородчина одной из первых в стране стала на путь специализации. Да и председательский корпус десятилетиями формировался из аграрной элиты. Уже нет с нами, например, Василия Яковлевича Горина, Якова Тимофеевича Кирилихина и многих других видных коллег, а их опыт изучают и развивают последователи. В этой именитой когорте оказался и я.
Вы вот в начале нашей беседы заговорили о наградах. Приятно, конечно, что труд мой высоко отмечен государством. Но еще приятнее доброе отношение всех, с кем довелось пережить и радости, и горести. Уже говорил, что после окончания сельскохозяйственной школы в Воронеже вернулся в Архангельское. Немало потрудился, чтобы поле радовало урожаями. В иные годы озимая пшеница давала под 50 центнеров с гектара. Решили меня выдвинуть председателем колхоза имени Чапаева, который лежал на боку. Я – ни в какую. Меня наказали, освободив от обязанностей агронома. Сидел дома, нигде не работал. Как-то приезжает председатель райисполкома, приглашает посмотреть поля. Едем. Колхозная нива кончилась, начались посевы другого колхоза. Куда мы едем, спрашиваю. Он остановил машину и говорит: едем в Чапаева, будем избирать тебя председателем. Да я же в рабочей одежде, отнекиваюсь. Ничего, успокаивает, и так сойдет. Приехали. Избрали меня в президиум собрания. Но я остался сидеть в зале. Начались дебаты. Общее мнение такое: не гожусь в председатели, потому что «чужак». Наконец слышу женский голос: надо бы на кандидата посмотреть. Встал. Посмотрели. Тот же женский голос: «А он, бабоньки, ничего. Мордатенький, откармливать не надо, воровать не будет. Нам повезло – 21-го председателя избираем. Очко выпало. Будем избирать!». Избрали.
А теперь расскажу, что было дальше. После пяти лет работы в колхозе имени Чапаева у руководства района возникла необходимость направить меня на укрепление колхоза имени Урицкого, того, что в родном селе. Колхоз к тому времени совсем зачах. Председателей меняли едва ли не ежегодно – безрезультатно. Опять-таки правдами-неправдами «доставили» меня в Урицкого. Там я был избран председателем. А потом поехали в Чапаева, чтобы люди отпустили на новое место работы. Не отпускали. Две недели шло общее собрание. Подчеркиваю: 14 дней! В районе и так, и этак исхитрялись – ничего не получается. Предположили даже, что это мои родственники – в имени Чапаева было много однофамильцев – воду мутят, не хотят оставаться без «покровителя». Проверили, не оказалось там у меня родственников. Оно было и так понятно, что родственники тут ни при чем. Дела в хозяйстве наладились. Люди стали получать достойную по тем временам зарплату. В соседнем селе, которое не входило в наш колхоз, кооператоры открыли новый магазин. А скупали в нем товары мои подчиненные – было за что покупать. Я по этому поводу в районе тоже отчет держал: мол, почему это твои колхозники соседей обирают. Да не обирают, говорю, а тратят честно заработанное. Пусть и соседи так же работают, а не жалуются.
Словом, затянулось мероприятие. Тогда было решено провести партийное собрание. Гонцы из района побеседовали с одним членом партии. Тот вроде согласился внести предложение об освобождении меня от должности. А когда ему дали слово, говорит: председатель наш – инвалид войны. Давайте за счет колхоза отправим его на год в Сочи. Пусть подлечится. А потом посмотрим, как быть.
В общем, еле-еле отпустили меня в родное село. С тех пор много воды утекло. Но это собрание до сих пор в моей памяти, будто состоялось вчера. А я ведь не был председателем-паинькой. Порой наказывал и специалистов, и руководителей среднего звена, и колхозников так, что мало не казалось. Тем не менее, тем не менее… Даже когда слили колхозы имени Чапаева и имени Урицкого и был образован совхоз имени Урицкого, меня утвердили директором совхоза. Тянулись за мной люди. Тянулись, наверное, потому, что видели: «руководящее» кресло для меня не царский трон, а место на галере, на которой вместе с другими приходилось вкалывать с раннего утра до позднего вечера. А еще потому, что не прятался за коллектив, а если ситуация требовала, выражаясь по-фронтовому, вызывал огонь на себя. И на этой и на любой другой самой незавидной должности стремился понять людей, найти с ними контакт, помочь и советом и делом.
На бригадирском поприще однажды сложилась очень непростая ситуация. Надвигалась осень, на горизонте маячила непогода. А на поле неубранная солома. Не уберем – колхозное стадо останется без корма, не вспашем зябь. Собрал бригаду. Друзья, говорю, наше благополучие там, в поле, в наших руках. Надо постараться. Взял метровку, показательно отмерил себе делянку. Начал убирать солому. Обернулся, все как один встали за мной в ряд. Справились!
Когда стал председателем исполкома сельского Совета, с удивлением обнаружил, что у исполкомов прав с гулькин нос. Занимались в основном сбором налогов. Но и по этому показателю наш сельсовет был на одном из последних мест в районе. Пошел на неординарный шаг. Побывал в каждой семье. Взял на учет всех, кто платить налог не в состоянии, – вдов, многодетные семьи, одиноких стариков. В районе настоял на том, чтобы с них налоги были списаны. Сами понимаете, за свою точку зрения пришлось воевать, и воевать серьезно. А тем, кто не платил умышленно, посоветовал не испытывать терпение власти. Помогло. Тут меня еще больше «зауважали». Раньше ведь как бывало: едет из района высокое начальство – сразу в колхоз. В исполком не заглядывали. Стало по-другому: гости сначала приезжали в исполком, а потом вместе со мной к руководству колхоза.
В первые дни председательствования в Урицком пошел по фермам. Захожу в одну и чуть в обморок не падаю. Навоза столько, что коровы стоят под самой крышей. Всю солому, которой она была покрыта, съели. Стены из глины и хвороста проткнуты рогами. Холодища в помещении неимоверная. Стоит мое «дойное стадо», обличьем больше похожее на скелеты, и дрожит мелкой нездоровой дрожью. Захожу в другое помещение, кирпичное. А оно наполовину пустое. Оказывается, там была установлена так называемая «елочка» – система для механической дойки коров. «Елочку» эту давно никто не использовал, она была нужна для отчета. Ломайте «елочку», приказываю. Э-э-э, председатель, она в районе на особом счету. За нее и посадить могут, отвечают. Тогда сам взял топор – и по трубопроводам, по механизмам, по аппаратам. Раздумывать некогда было: еще день-другой, и начался бы массовый падеж коров. Только тогда у меня нашлись помощники. Словом, перевели стадо в «хоромы».
Однажды позвонил мне первый руководитель района. Спрашивает: ты, Дмитрий Константинович, просо посеял? Нет, отвечаю, рано еще, земля не поспела. Как это не поспела, говорит с нотками недовольства, все уже отсеялись, а у тебя не поспела? Не мудри, сей! Ты районную сводку портишь. Спорить не стал. Но и не пошел на поводу у руководителя. Половину поля засеял, когда велено. Остальную – когда подошли сроки. В конце лета приезжает этот руководитель в наше хозяйство. Вижу, посещением остался доволен. Настроение хорошее. Я возьми и предложи посмотреть «мое» и «его» просо. Тот не понял, о чем идет речь, а я карты не раскрываю. Поехали в поле. На одном участке посевы темно-зеленые. Надави на лист, кажется, сок брызнет. Каждая метелка в виноградную гроздь. На другом растения желтоватые, низкие, метелки щуплые. Ну и где, спрашивает гость, мое просо? То, что желтое, отвечаю. Почему, удивляется, нахмурясь? Потому что посеял, когда вы сказали. А то, что рядом, мое. В срок посеяно.
Вижу, испортил я настроение гостю. Сел он в машину и молча уехал, не попрощавшись. Команды, конечно, продолжали сыпаться. Но уже не столь безапелляционные. Ты, дескать, действуй, как знаешь, Но если что – отвечать будешь по полной. Чего-чего, а ответственности не боялся. После фронтовых передряг никакая ответственность не пугала. Тем более, я не только ершился, артачился, но и частенько использовал в колхозе то, на что другие руководители не обращали внимания. Заметил, например, что семена клевера пользуются спросом, за них платят хорошие деньги. Выкроили в колхозе поле под клевер, а для обработки семян приспособили пульман, который был предназначен только для удаления отходов из зерновых культур. Семена клевера легче зерен пшеницы и ячменя, их не так-то просто отделить от мусора. Но местные умельцы додумались, как решить проблему. И дело закрутилось-завертелось. Даже из Белоруссии за семенами приезжали. В хозяйство потекли «живые» деньги. А это не только добавка людям к зарплате, но и новые квартиры, объекты инфраструктуры. С течением времени вышло так, что, если у меня возникали какие-то трения в районном звене по сугубо хозяйственным вопросам, первые лица района брали мою сторону, говорили подчиненным: не мешайте человеку, он дело знает.
Разумеется, я не призываю к повсеместному возрождению колхозов. Но считаю, что только использование всех форм хозяйствования на земле обеспечит нашу продовольственную безопасность. Оправдывают себя крупные агрохолдинги – отлично! Приумножает фермер наш общий каравай – ради бога, пусть трудится. А если в каком-то колхозе дела идут на славу, что ж его стричь под общую гребенку? Как говорят китайцы, неважно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Нельзя развивать отрасль, все время гоняясь за модой. Мода – штука капризная, изменчивая. Уверен: Белгородчина потому и задает тон в сельском хозяйстве, что опирается на многоукладную экономику.
Успехов вам, дорогие мои земляки! Пусть каждого из вас ведет за собой стремление к лидерству на любом рабочем месте. Поверьте: ничто так не преображает душевный настрой, как вот эти, казалось бы, обыденные слова: «Не мешайте человеку, он дело знает!»
- Добавить комментарий
- 5246 просмотров
- Страница для печати